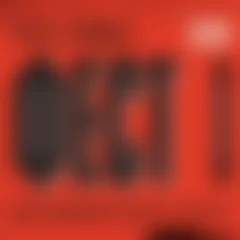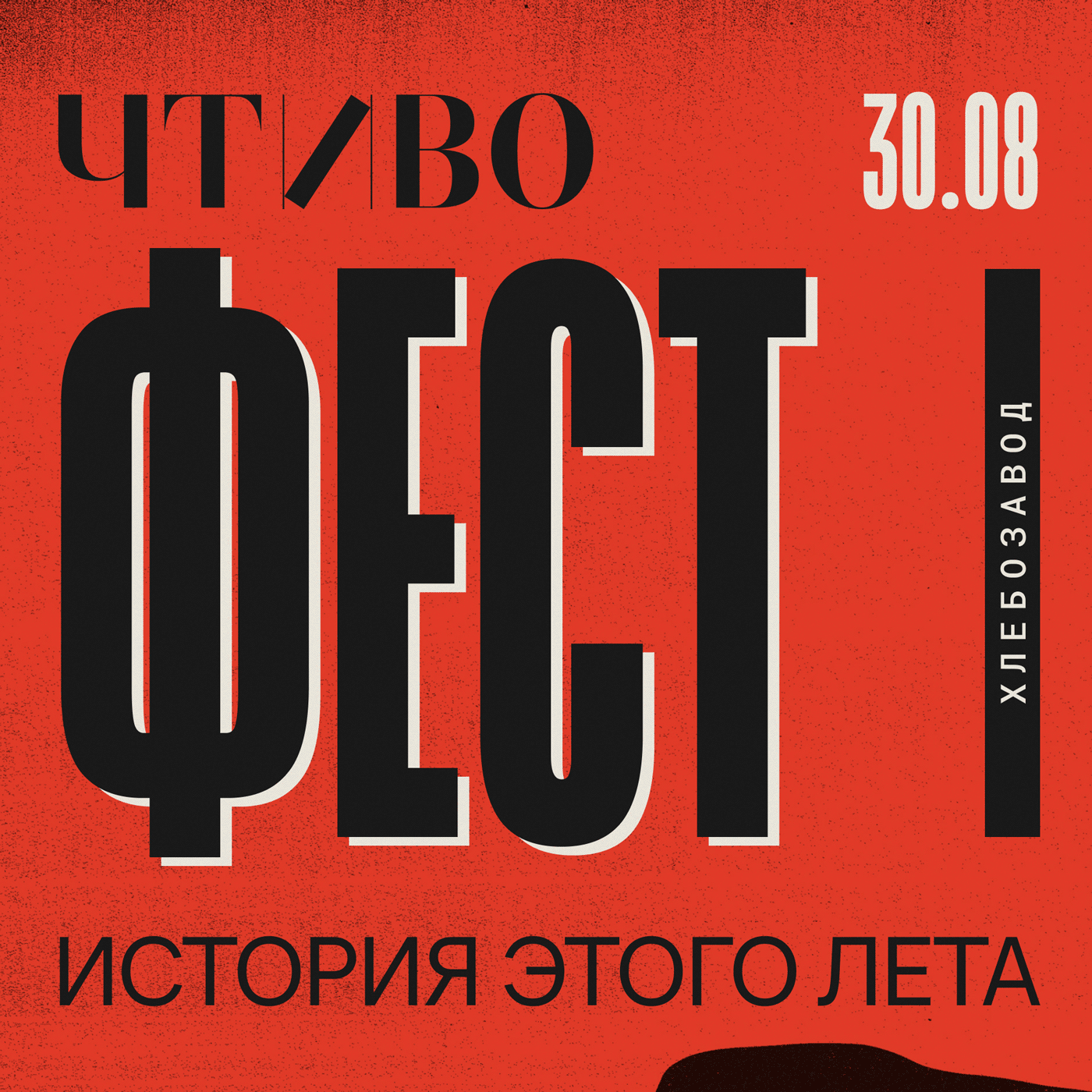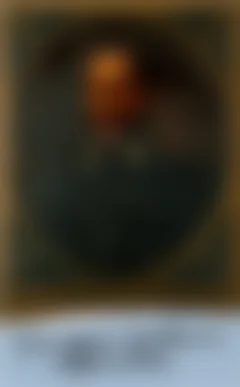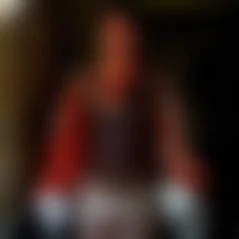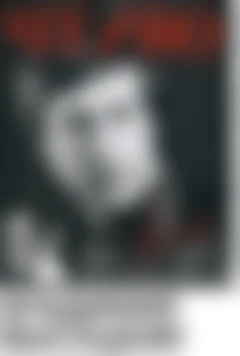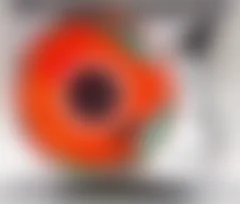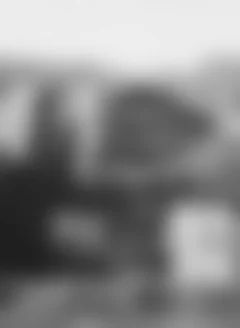Когда-то они были сердцем телевидения. Ситком прошел путь от уютного культа до культурного анахронизма. Но почему жанр, который научил миллионы смеяться, больше никого не веселит — и может ли он еще вернуться?
Прежде чем у ситкома появились камеры и диваны, у него были микрофоны и наушники. Его голос впервые прозвучал не в телевизоре, а по радио — в тот момент, когда Америка еще не знала ни цветного экрана, ни кнопки «пропустить заставку».

«Друзья» / Warner Bros. Television / Getty Images
Официально родословную жанра ведут от «Эймоса и Энди» — скетчевого радиошоу, стартовавшего в Чикаго в 1928 году. Его авторы, два белых актера — Фриман Госден и Чарльз Коррелл, — играли афроамериканцев, имитируя их речь, характеры и стереотипы. С позиции сегодняшнего дня — расистский кошмар, но тогда это было настоящим хитом. Слушатели подстраивали свой вечер под эфир. Останавливалась работа, закрывались магазины. Американский президент Герберт Гувер говорил: «Это напоминает мне мою собственную жизнь».
Госден и Коррелл называли свое шоу a situational comedy — отсюда и родилось то самое «ситком».
Это были короткие диалоги с одним сюжетом, знакомыми персонажами и комическим недопониманием. Тогда еще без образов и антуража — все держалось на голосах, паузах и повторяемости.
Радиоситкомы работали по строгой формуле: два героя, узнаваемая ситуация, шутка на входе, пауза в центре, развязка к финалу. Они были предельно экономичны и невероятно популярны. В начале 1940-х более 80% американских домохозяйств регулярно слушали хотя бы один комедийный сериал по радио.
Другие успешные радиоситкомы того времени — «Фиббер Макги и Молли», «Семья Олдрич», «Голдберги», все строилось вокруг семьи, дома и глупых бытовых ситуаций. Шутки были мягкие, но главное — герои не менялись, и слушатель возвращался к ним, как к друзьям. Тогда и закрепился первый и основной принцип ситкома: ничего не должно меняться всерьез. Все страдают, но все возвращается на круги своя — чтобы в следующем эпизоде можно было начать заново.
Телевидение всерьез ворвалось в американские дома после Второй мировой.
Камеры стали доступнее, эфиры — регулярнее, а у зрителя появился визуальный опыт, которого не может дать радио: теперь он видел, как шутка происходит в пространстве. Первым настоящим телевизионным ситкомом считается «Мери Кей и Джонни». Он выходил в прямом эфире на DuMont и NBC в 1947 году. Главные герои — пара, супружеская и в жизни, и в кадре, — они играли самих себя. Шоу было не только первым, где показали на экране женскую беременность, но и первым, где герой и героиня спали в одной кровати (что по стандартам тех лет было почти революцией). К сожалению, большинство выпусков утеряны, сохранилось только несколько фрагментов, но формат задал основы: постоянные персонажи, смешные конфликты, замкнутая локация.

«Голдберги» / George Karger / Getty Images

«Мери Кей и Джонни» / Public Domain
Сразу вслед появились «Голдберги» — перенесенное на TV семейное радиошоу о еврейской семье в Бронксе. Выходившее в эфир с 1929 года (на радио), оно стало одним из первых американских «семейных» ситкомов, где конфликты были не абстрактными, а социальными: ассимиляция, бедность, соседские интриги.
На телевидении формат обрел плоть — буквально (в 1949 году). Появились декорации, стулья, двери: теперь шутить можно не только словами, но и мимикой, жестами. И ситком стал таким, каким его сейчас помнят: кухонной драмой с точкой смеха.
К 1960-м ситком окончательно перекочевал в зону семейных ценностей.
Америка переживала демографический бум, в каждой семье были дети — они стали появляться и в каждом шоу. Формула была простой: папа работает (в рубашке и галстуке), мама готовит, дети дерутся на фоне, но в финале все мирятся. На экране такая семья выглядела чище и крепче, чем в жизни, — именно за это ее и любили. Одной из ключевых черт того времени стало негласное правило: в любом успешном семейном ситкоме рано или поздно появится ребенок. Это означало, что герои «устроились», сюжет стабилизировался, и все можно вести дальше в бесконечность. Примеры — «Шоу Дика Ван Дайка» (1961), «Три моих сына» (1960), «Семейка Брэди» (1969).
Однако к середине 1970-х Америка изменилась. На фоне войны во Вьетнаме, экономических кризисов и феминизма идеальные образы стали казаться фальшивыми. Так появились ситкомы, в которых вместо улыбчивых родителей — усталые рабочие, вместо уроков морали — бытовая сатира. Самый яркий пример — «Все в семье» (1971), где главный герой, откровенный расист и ретроград, стал голосом тревожного поколения. Это был не просто смех, а форма коллективной психотерапии. Смену тональности подхватили «МЭШ» (1972) и «Джефферсоны» (1975).
Ситком перестал быть только про семью, он стал про страну.
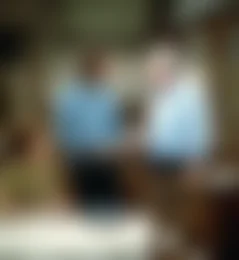
«Все в семье» / CBS / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News
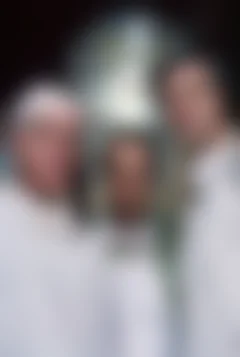
«МЭШ» / CBS / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News
В 1980-е все радикализировалось. Если раньше смеялись над детьми и тещами, то теперь — над самими институтами брака и родительства. Ситком «Женаты и с детьми» (1987) стал антисемейной библией эпохи: Эл Банди ненавидит свою жизнь, жена ленива, дети несносны, и никто даже не пытается прикинуться «хорошим». Это был первый комедийный сериал, где семейная ячейка вызывала не зависть, а нервный смех. Параллельно продолжалась линия более классических форматов, но с новым наполнением: в «Шоу Кросби» (1984) показали афроамериканскую буржуазную семью, а в «Розанне» (1988) дали слово рабочему классу.
Именно в этой противоречивой атмосфере появился «Сайнфелд» (1989) — шоу, которое отменило правила. Без морали, без сюжетной арки, без детей, без уроков. Джерри, Джордж, Элейн и Космо проживали эпизод за эпизодом как будни в большом городе: обсуждали ерунду, ругались, возвращались к началу. Это было шоу «ни о чем», но в нем угадывалось все: урбанистическая тревожность, одиночество в толпе, бесконечная ротация неудач.
Ситком стал не рассказом о жизни, а симуляцией ее бессмысленности.

«Шоу Кросби» / NBC / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News
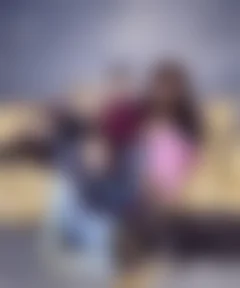
«Женаты и с детьми» / Aaron Rapoport / Corbis / Getty Images
К 1990-м фокус окончательно сместился на друзей. Семья — больше не норма, а необязательный пункт. Молодые герои живут вместе, пьют кофе, работают по остаточному принципу. В ситкомах этой эпохи — «Друзья» (1994), «Фрейзер» (1993), «Уилл и Грейс» (1998) — семья заменяется сообществом. «Друзья» создают идеальную модель городской жизни, в которой не надо взрослеть по-настоящему: работа не важна, дети появляются только ближе к финалу, а главное — быть рядом друг с другом. Формат стал легче, ярче, глобальнее: ситком из американского явления превратился в культурный экспорт.
Формат стал легче, ярче, глобальнее: ситком из американского явления превратился в культурный экспорт.
А в 2000-е он снова изменился. Сначала незаметно, потом — радикально. Камера стала одна, герои — сломанные, а зритель стал ловить не столько реплики, сколько паузы. «Клиника» (2001) перенесла комедию в больничные декорации. «Офис» (2005) ввел жанр мокьюментари на малые экраны: герои смотрят в камеру, неловко молчат, шутят, как в жизни, — с просадкой, с пустотой. «Как я встретил вашу маму» (2004) добавил романтический нарратив и флешбэки. «Теория большого взрыва» (2007) стала последним классическим ситкомом с огромным успехом: декорации, смех, 12 сезонов — но даже он в финале вынужден был вырасти.
Эти изменения не случайны. К тому моменту ситком перестал быть фоном. Он стал зеркалом, в котором отражались усталость от уверенности, страх перед взрослением, нехватка опоры. Если раньше герой шел по дуге от глупости к уроку, то теперь — от неловкости к еще большей неловкости.
Жанр, который начинался как лекарство от одиночества, превратился в доказательство, что с одиночеством живут миллионы — и смеются, чтобы не расплакаться.

«Клиника» / Public Domain
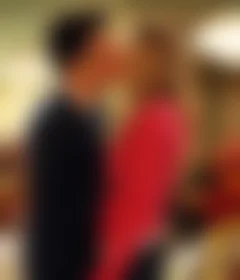
«Как я встретил вашу маму» / 20th Century Fox Television / Bays Thomas Productions / Album / East News
К началу 2010-х стало ясно: привычный ситком — с четырьмя стенами, смехом за кадром и крохотной моралью в финале — теряет хватку. Не потому, что перестал быть смешным, а потому что перестал отражать реальность. Мир теперь тревожный, сложный, циничный, а зритель — уставший и избирательный. Сетевые каналы еще пытались удерживать статус-кво: выпускали новые ситкомы с фирменной формулой, делали ремейки, возвращали актеров-ветеранов. Но получалось все хуже. Некоторые проекты закрывались после первого сезона. У каких-то были приличные рейтинги, но нулевая культурная отдача.
Смех звучал уже как эхо из прошлого.
Одновременно с этим на сцену вышли стриминговые платформы — Netflix, Hulu, Amazon Prime — и зритель впервые за много лет получил то, чего раньше у телевидения не было: контроль над временем. Больше не нужно ждать выхода нового эпизода по четвергам. Теперь можно смотреть сериал залпом. А значит — формат ситкома, где один эпизод = одна история, начал проигрывать в темпе и вовлеченности длинному нарративу. Люди хотели не посмеяться — а залипнуть. И залипали уже не на диваны с кофейнями, а на драмы с убийствами, тревогой, зависимостью и монологами про одиночество. Смешное могло быть — но обязательно с глубиной
Так родился новый гибрид: драмеди — драматическая комедия, где смех нужен не для облегчения, а как инструмент выживания.

«Дрянь» / Album Online / East News
Пионерами жанра стали «Луи» (2010) Луи Си Кея, «Конь БоДжек» (2014), «Дрянь» (2016), «Мастер на все руки» (2015). Все они строились на героях, у которых что-то внутри надломлено. У них у всех была смешная подача, но за ней — депрессия, травма, страх быть понятым. Эти шоу больше не нуждались в смехе за кадром, потому что зритель сам знал, где смеяться. Или не знал.
В «Офисе» смеются над тем, как страшно быть неуместным. В «БоДжеке» — над тем, как страшно быть знаменитым. В «Дряни» — над тем, как страшно быть живым. Все эти шоу используют комедию как панцирь, под которым скрываются экзистенциальные вопросы. И чем больше панцирь трескается — тем ближе зрителю.
Ситком не умер — он рассосался. Перестал быть отдельным жанром и стал состоянием.
Его элементы (комедийный ритм, наборные персонажи, маленькие пространства) живут теперь в других форматах. Например, «Тед Лассо» (2020) — по структуре ситком: добрый герой, повторяющийся каст, короткие серии. Но под капотом — драма о травме и маскулинности. Или «Убийства в одном здании» (2021): казалось бы, детектив, но построен как классический ситком — с абсурдными диалогами, постоянными локациями и юмором, в который встроено одиночество.

«Тед Лассо» / Public Domain
И тут появляется интересный парадокс. Чем серьезнее становилась жизнь, тем менее уместным казался традиционный смех. Но одновременно — тем сильнее росла тоска по формату, в котором все заканчивается хорошо. Возможно, поэтому старые ситкомы переживают второе рождение.
Традиционный ситком, конечно, уже не вернется в прежнем виде. Он не вписывается в ускоренное, многоуровневое телевидение, где драматургия строится на клиффхэнгерах и бесконечных страданиях. Но его наследие живет в монтаже, в кастинге, в ритме. Он не умер. Он просто встроился в новые форматы, в новые страхи, в новую реальность, где никто уже не смеется над падением с лестницы, но все чувствуют потребность в чем-то знакомом, теплом и безопасном. Пусть даже на 22 минуты.