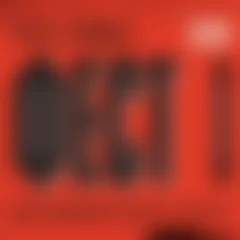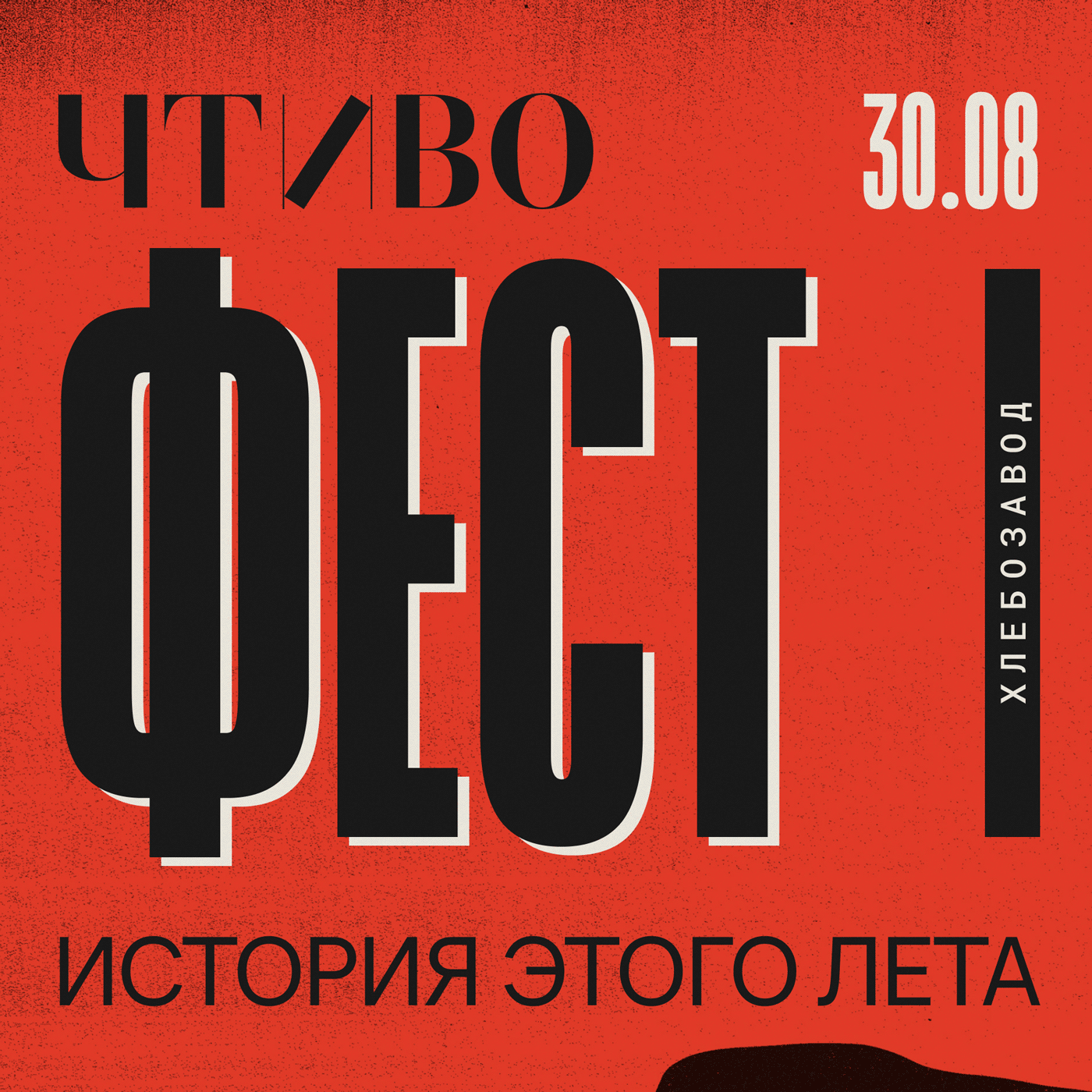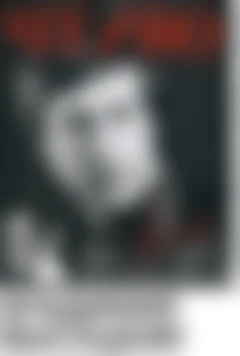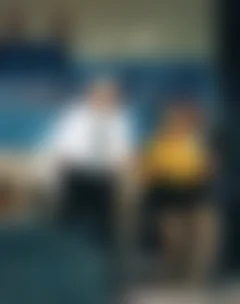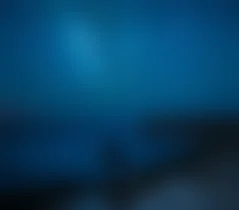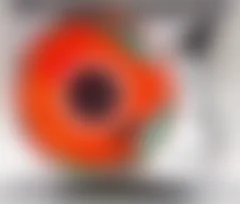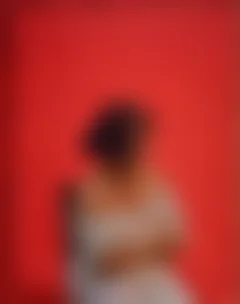Облачные хранилища, онлайн-экскурсии с новаторским повествованием и «Небесный Эрмитаж»: главный редактор ЧТИВА Сергей Минаев встретился с Михаилом Пиотровским, чтобы обсудить, как меняется отношение людей к музеям, а музеев — к людям. И как VK помогает Государственному Эрмитажу находить новые возможности для разговора с аудиторией и с самим собой.
Сергей Минаев: Михаил Борисович, я на прошлой неделе читал исследование на тему, как молодые люди тратят свое время; как они распределяют его между видеоплатформами, прогулками, играми и так далее. В том числе там были походы в музеи и на выставки.
Вот сейчас всё стремится к примитивной систематизации. Я имею в виду хит-парады: топ-5 блюд русской кухни, топ-5 музыкальных произведений 19-го века. Вот если бы вас спросили, какие темы в искусстве людей сегодня интересуют больше всего? Какие экскурсии они выбирают, какие залы чаще всего посещают в Эрмитаже?
Михаил Пиотровский: Это мумии (хотя сейчас уже меньше, люди начали понимать, что с трупами не надо иметь дела), часы «Павлин», потом — «Мадонна Литта», «Блудный сын» Рембрандта и так далее. Недалеко идет Матисс, хотя «Танец» Матисса в мировом масштабе — самая «экзотичная» картина Эрмитажа.

С течением времени (например, возьмем с 80-х) предпочтения публики менялись каким-то образом или нет?
Видите, мумия уходит, а часы «Павлин» остаются. Для 80-х и 90-х. «Мадонна Литта» — главная картина Эрмитажа. Красиво, благородно, плюс вокруг нее еще всякие пляски были, которые сейчас невозможны. Например, был снят знаменитый фильм Павла Когана «Посмотри на лицо», где скрытой камерой снимались лица людей, которые смотрели на «Мадонну Литта». Один из шедевров нашего документального кино. Сегодня невозможно без разрешения такое количество людей снимать.
Сейчас меняются вкусы. Конечно, философский «Блудный сын» Рембрандта — это то, что важно для всех. Интеллигентный посетитель приходит лишний раз постоять около него. Конечно, есть изменения массового вкуса, есть изменения вкуса общего. Когда «Блудного сына» привозили из эвакуации, люди снимали шляпы.
За счет чего в течение всей второй половины ХХ века количество посетителей Эрмитажа растет?
Ну, оно не все время растет, на самом деле. Росло в послевоенное время. Во времена оттепели и застоя, которые ничем друг от друга не отличаются. Потом за счет того, что у людей появилось больше свободного времени, и они стали приходить в музей. В Ленинград стали приезжать туристы. Приходили полные поезда. Ну и существовала система полуобязательного посещения Эрмитажа, в частности, для детей, школьников и студентов. Появились и иностранные туристы.
Складывались разные факторы, и музеи становились все популярнее. Сейчас это происходит во всем мире.
Вот буквально сняли с языка. Во всем мире мы сейчас наблюдаем такого человека — давайте назовем его «человек с айфоном». Он есть в Эрмитаже, в Уффици, в музее Ватикана — где угодно. Он прибегает в музей. Чик-чик — Боттичелли, чик — «Павлин». Он провел там 30 минут или час, все зафотографировал, что-то выложил в соцсети и ушел. На мой взгляд, такой музейный гость сейчас доминирует во всем мире. Посмотрел Эйфелеву башню или Красную площадь, а в Питере посмотрел Эрмитаж. Это обязательно. На ваш взгляд, какую общественную функцию музей сейчас выполняет?
Музей в первую очередь — хранитель памяти. Это его главная функция. Не только галерея. Это сохранение памяти, которую мы воспитываем. Даем людям понимание: мы не сегодня родились, есть предки, есть потомки.
Потом у него важная терапевтическая функция. Сегодня мир очень болен.
Я всегда смеялся, когда говорили «арт-терапия», «терапевтическая роль музеев». Теперь не смеюсь.
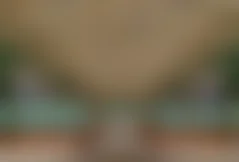
Людям нужно некое отдохновение, некая отдушина, некое самоутверждение историческое.
Что касается селфи, о которых вы сказали. Какое-то время музеи пытались такой подход запрещать. Потом все разрешили — и мы разрешили. Невозможно запретить, когда у людей в карманах телефоны. Ну делают селфи и делают, это не очень страшно. Когда я только стал директором, я сделал вход в музей бесплатным для детей. Смотрители говорили мне с возмущением: «Что устроили? Они прибегают купить тут кока-колу». Тогда ее еще не продавали на каждом углу. Они покупали в буфете и убегали. Я отвечаю: «Пока бегут туда-обратно, проходят мимо пяти статуй. Уже хорошо. Пусть ходят!»
Снимать на телефон тоже можно по-разному. Вот сейчас у нас чудесная выставка ар-деко. Я обратил внимание, что люди снимают экспонаты, а не себя с экспонатами. Это реальность. Надо ее правильно оценивать и понимать. Пусть люди унесут с собой визуальный образ.
Я начал разговор с того, что сейчас идет борьба за время человека. Музей вообще должен бороться за посетителя?
Конечно, нет. Музей — самодостаточная вещь. Мы видим, что в музеях полно народу. На самом деле, бóльшая часть музеев переполнена. Мы знаем истерику с Лувром сейчас. Он рассчитан на 5 миллионов человек, а зайти пытаются 10 миллионов. Это плохо для музея, плохо для вещей. И прежде всего, плохо для посетителей.
С чем связан этот дикий рост популярности? С доступностью туризма?
Я не знаю точно. С одной стороны, хорошо, что людям хочется искусства и культуры. С другой стороны… Есть проблема бедной Венеции, куда люди приплывают на огромных кораблях, стирают тротуары и уплывают. Вместе с ними уходит дух Венеции, где нужно побыть, посидеть, впитать этот запах. Это общая массовость.
То есть фактически Венеция (и Эрмитаж туда же), любой большой музей начинает вписываться в контекст поп-культуры. Если проще сказать.
Да. Нужно найти какой-то выход.
Поп-культура — хорошо, когда у людей дома висит репродукция «Мадонны Литта», а не Мадонна.
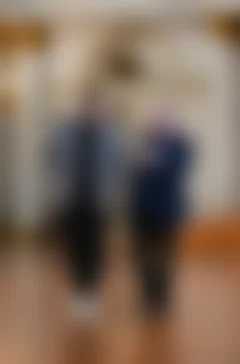
В этом смысле музей — он про классику? Или ему необходимо удивлять какими-то громкими выставками, каким-то хайпом?
Музеи есть разные. Каждая научная выставка Эрмитажа — это исследовательская выставка, это отчет: что именно исследовали, почему тем или иным образом представлена коллекция. Потому что невозможно просто выставлять километры искусства.
У нас в Эрмитаже особенный подход. Мы не делаем выставки с отдельным входом, с отдельным билетом. Ты пришел в Эрмитаж, ты увидел все пять-шесть выставок, которые есть. Мы соединяем постоянную экспозицию с выставкой. Выставки, соответственно, должны ранжироваться. Иногда хочется сделать выставку веселую, театральную. Тогда мы зовем театральных художников, чуть отодвигаем в сторону академичность и ведем рассказ для более широкого зрителя.
Такая выставка получается одновременно и вызовом, и развлечением. Но у каждой выставки должен быть специальный отдельный смысл. Не нужно стараться просто делать выставки массовыми. Это неприличное слово для серьезного музея. Надо делать выставки, которые будут созвучны тем или иным посетителям. Мы говорим: молодежь, не молодежь. На самом деле, так люди не разделяются. Мы говорим: слабо образованные, очень образованные, гурманы, то-сё. Для всех что-то должно быть придумано. Поэтому в Эрмитаже мы делаем сразу несколько выставок.
Можно про слабо образованных? Мне эта тема ближе. Им вообще зачем в музей идти? Такой человек постесняется же идти в музей, потому что там какие-то вещи, сложные для понимания. Как эту аудиторию привлекать?
Важно понимать, как много людей приходят посмотреть дворцы. Люди приходят посмотреть на прекрасные паркеты, на высокие потолки, на русскую историю, воплощенную в залах. Тут же мы им вешаем великие картины. Показываем им Леонардо да Винчи. И придется им услышать, разобраться, кто такой да Винчи.
Параллельно, если ты внимательный и у тебя есть желание, ты начинаешь присматриваться, и тогда ты видишь картины, читаешь подписи, заходишь в интернет и включаешь виртуальный тур — выясняешь, что происходит вокруг и что это такое.
Постепенно люди втягиваются. Эрмитаж втягивает людей.

Вы первые сделали виртуальную экскурсию. Потом вы продолжили идти по этому пути, сейчас выходят новые онлайн-экскурсии с VK. У меня вопрос. У вас нет опасений, что со временем в музей станет ходить меньше гостей? Открыл интернет да посмотрел всё.
Буквально сейчас у нас сменяется выставка в Эрмитаже в Оренбурге. Мне приходит сообщение от директора: «Громадный успех фильма с Хабенским!» Это же VK. Фильм очень здорово рассказывает об Эрмитаже. Там показаны и пожар, и музейная жизнь, и всё. Сконцентрировано то, что мы стараемся сейчас сделать вместе с VK. Так что это немного другой жанр и отдельные впечатления, поэтому это не помешает людям приходить. Но зато помогает прийти в музей с толком. А музею сейчас лишних людей не нужно. Нужны, наоборот, люди, которые приходят со смыслом — и таких достаточно много. Поэтому никакого страха нет.
Каким был принцип отбора предметов искусства для проекта «Один музей. Три взгляда»?
В разработке гида участвовали две категории специалистов: научные исследователи и сотрудники научно-просветительского отдела, которые знают публику и ее реакцию. Принцип был таким: создать что-то уникальное. То, что невозможно пройти с обычной экскурсией.
Одна из экскурсий — музейная. В нее мы включили Леонардо да Винчи. Вернее, не совсем. Мы показываем камеры со специальным климатом, в которых стоят картины да Винчи. И идет рассказ о том, как создается этот климат.
Дальше начинается рассказ о том, что делают музейщики; затем — рассказ про реставрацию. Это все к тому, что есть такой тезис: шедевр создается музеем. Пока музей не сказал вам, что это шедевр, это не шедевр. С этим можно спорить, но на самом деле мы показываем вам те особенности, которые делают ту или иную вещь замечательной и прекрасной. Об этом нужно рассказывать.
Наконец, есть совсем новая линия — о том, как относиться к искусству с юмором. Это такой эксперимент. Я с нетерпением жду, как это получится.

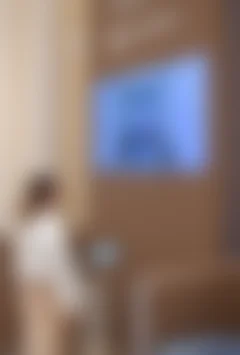
В заключение я хочу задать вопрос по поводу вашей работы с VK. Что она дает Эрмитажу?
Мы очень ценим это сотрудничество, которое длится много лет. Мы всё время участвуем в фестивалях VK. Это возможность выйти и найти сегмент аудитории, создать что-то, этому сегменту более понятное. Это первое.
Второе — это новые языки общения с людьми. Их можно интересно использовать. Это очень интересно, и это новая форма существования музея.
Чтобы исторический музей сохранился, нам нужно создать ему некую резервную копию.
Мы сейчас называем это «Небесный Эрмитаж», где разные технологии используются. У нас есть «виртуальный визит», есть NFT, есть всякие фокусы. И я уверен, сейчас у нас будут замечательные экскурсии особого типа. Особый тип общения музея с посетителями и вообще музея с самим собой.